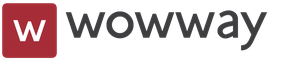Разработка проблемы «герой и время» в рассказе «Река Оккервиль
Разработка проблемы «герой и время» в рассказе «Река Оккервиль»
Как мы уже отметили выше, категория времени - важнейшая в поэтике прозы Т. Толстой. На это обращали внимание ещё первые критики творчества писательницы. «Постоянное совмещение временных пластов, чередование ускорения и замедления хода времени», - отмечал П. Спивак. Автор, по М. Липовецкому, создаёт свой хронотоп, в котором всё одушевлено.
Следует отметить, что время в рассказах Т. Толстой амбивалентно, взаимопроникаемо. Часто прошлое течёт в настоящем, настоящее в будущем и наоборот. Характерная черта - расчленённость хода времени. Очень часты хронологические скачки, смена ускорения и замедления. Причём важно, что ускорение течения времени связано с обыденной жизнью героев, а замедления - с наиболее яркими воспоминаниями. Время, как память, останавливается на наиболее ярком. Начало и конец времени находятся в вечности.
Во всех рассказах, благодаря скрытому или явному присутствию рассказчика, отсчёт времени начинается с конца, возвращаясь через начало снова к концу. Так образуется вечный круг времени - один из центральных концептов поэтики Т. Толстой.
И вместе с тем следует согласиться с П. Вайлем и А. Генисом, которые отмечают, что авторский идеал - время, которое идёт не вперёд, в будущее, а по кругу. Толстая пользуется особым временем. Действие в её рассказах происходит не в прошлом, не в настоящем, не в будущем, а в том времени, которое есть всегда.
Рассмотрим специфику течения времени в жизни героев в одном из лучших рассказов «Река Оккервиль».
Это произведение, написанное в 1987 году, поднимает тему «Человек и искусство», влияния искусства на человека, взаимоотношения людей в современном мире, это раздумья о соотношении мечты и реальности.
Рассказ построен на принципе «сцепления ассоциаций», «нанизания образов». Уже в начале произведения объединяется картина стихийного бедствия - наводнения в Петербурге - и рассказ об одиноком, начинающем стареть Симеонове и его быте. Безусловно, заметен и постмодернистский прием автора: подчеркивание интертекстуальной связи с «Медным всадником» А.С.Пушкина, где звучит тема величия Петра I, его лучшего творения - красивейшего города Санкт-Петербурга и незначительности маленького человека с его надеждами, мечтами, разочарованностью, бесконечной и неизбывной потребностью в любви, чистоте, реализации себя в любовных отношениях и трагичной несбыточностью этих чаяний. Толстая далека от мысли, что мир разумен, она протестует против романтической иллюзии, будто жизнь безусловно прекрасна. Ирония у Толстой - не просто способ избежать патетики, не броня, защищающая сокровенное, а необходимая черта художественности, раскрывающей самое естественное и человечное. Беда многих героев Толстой в том, что они не замечают дара самой жизни, ждут или ищут счастья где-то вне яви, а жизнь тем временем проходит. Т. Толстая показывает, что мечтательный самообман и разоблачение мечты входят в естественное самодвижение жизни. Этот процесс характерен как для мужчины, так и для женщины, примером тому может служить не только Симеонов, но и Галя из рассказа «Филин», Александра Эрнестовна («Милая Шура»).
Герой рассказа «Река Оккервиль» самодостаточен (высокий социальный статус, напряженная духовная жизнь), и даже одиночество, порой толкающее человека на экстремальные поступки, воспринимается здесь как неотъемлемая часть его духовного мира. В отличие от бездуховности многих героев-мужчин женской прозы, Симеонов по-женски сентиментален и впечатлителен, много лет он влюблен в певицу Веру Васильевну, каждый день он слушает пластинку с ее голосом и мечтает о встрече с ней, что не мешает ему встречаться с реальной женщиной - Тамарой, которая иногда прерывает «драгоценные свидания с Верой Васильевной». Часы одиночества становятся «блаженным» для Симеонова, именно тогда, когда его никто не беспокоит, он наслаждается пением его любимой женщины, счастьем далеким и несбыточным, т.к. герой на самом деле влюблен в свою мечту (но и это, как говорится, не порок). Подчеркивается утонченность, хотя и несколько нарочитая, переживаний героя.
В рассказе можно выделить три временных пласта: настоящее, прошлое и будущее. Причем настоящее неотделимо от прошлого. Автор напоминает, что время циклично и вечно: «Когда знак зодиака менялся на Скорпиона, становилось совсем уж ветрено, темно и дождливо».
Холостяцкий быт Симеонова скрашивают чтение, наслаждение звуками старого романса. Т.Толстая мастерски передает звучание старого, «отливающего антрацитом круга»:
Нет, не тебя! так пылко! я люблю! - подскакивая, потрескивая и шипя, быстро вертелась под иглой Вера Васильевна;…несся из фестончатой орхидеи божественный, темный, низкий, сначала кружевной и пыльный, потом набухающий подводным напором, огнями на воде колыхающийся, - пщ -пщ - пщ, парусом надувающийся голос… - нет, не его так пылко любила Вера Васильевна, а все-таки, в сущности, только его одного, и это было у них взаимно. Х-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ». Голос певицы ассоциируется с каравеллой, несущейся по «брызжущей огнями ночной воде, расцветающему в ночном небе сиянию. И уходят на второй план детали скромного быта: «выуженный из межоконья плавленый сыр или ветчинные обрезки», пир на расстеленной газете, пыль на рабочем столе.
Противоречивость, присутствующую в жизни героя, подчеркивают детали портрета героя: «В такие дни…Симеонов…устанавливал граммофон, чувствуя себя особенно носатым, лысеющим, особенно ощущая свои нестарые года вокруг лица».
Название рассказа символично, в нем зашифрован символ времени - река. «Река Оккервиль» - название конечной трамвайной остановки, место, не изведанное для Симеонова, но занимающее его воображение. Оно может оказаться прекрасным, где «зеленоватый поток» с «зеленым солнцем», серебристые ивы», «деревянные горбатые мостики», а, может, там «…какая-нибудь гадкая фабричонка выплескивает перламутрово-ядовитые отходы, или что-нибудь еще, безнадежное, окраинное, пошлое». Река, символизирующая время, - меняет свой цвет - сначала она кажется Симеонову «мутно - зеленым потоком», позже - «уже зацветшей ядовитой зеленью».
Услышав от продавца граммофонных пластинок, что Вера Васильевна жива, Симеонов решается ее отыскать. Это решение дается ему непросто - в душе борются два демона - романтик и реалист: «один настаивал выбросить старуху из головы, запирать покрепче двери, жить, как и раньше жил, в меру любя, в меру томясь, внимая в одиночестве чистому звуку серебряной трубы, другой же демон - безумный юноша с помраченным от перевода дурных книг сознанием - требовал идти, бежать, разыскивать Веру Васильевну - подслеповатую, бедную старуху,… крикнуть ей через годы и невзгоды, что она - дивная пери, разрушила и подняла его - Симеонова, верного рыцаря, -и, раздавленная ее серебряным голосом, посыпалась… вся бренность мира»,
Детали, сопровождающие подготовку встречи с Верой Васильевной, предрекают неудачу. Желтый цвет хризантем, купленных Симеоновым, означают какую-то дисгармонию, некое больное начало. Об этом же, на мой взгляд, говорит трансформация зеленого цвета реки в ядовитую зелень.
Еще одна неприятность ждет Симеонова - отпечатавшийся на желейной поверхности торта чей-то отпечаток пальца. О дисгармоничности предстоящей встречи говорит и такая деталь: «Бока (торта) были присыпаны мелкой кондитерской перхотью».
По мере приближения к Вере Васильевне писательница снижает ее образ, сопровождая путь героя бытовыми подробностями, неприглядными реалиями, которые герой-мечтатель тщетно пытается подчинить своему воображению: соединить с романсовыми строками черный ход, помойные ведра, узкие чугунные перильца, нечистоту, шмыгнувшую кошку… «Да, так он и думал. Великая забытая артистка должна жить вот именно в таком дворе… Сердце билось. Отцвели уж давно. В моем сердце больном». Герой не свернул с пути, войдя-таки в квартиру Веры Васильевны, но читатель понимает, что его прекрасный водяной замок на реке Оккервиль уже рушится. Что же ожидало героя за дверью квартиры великой в прошлом певицы? «Он позвонил. («Дурак», - плюнул внутренний демон и оставил Симеонова.) Дверь распахнулась под напором шума, пения и хохота, хлынувшего из недр жилья, и сразу же мелькнула Вера Васильевна.» В жизни она оказалась огромной, нарумяненной, густобровой старухой с раскатистым смехом, с явно маскулинными чертами поведения. «Она хохотала низким голосом над громоздящимся посудой столом, над салатами, огурцами, рыбой и бутылками, и лихо же пила, чаровница, и лихо же поворачивалась туда-сюда тучным телом». Разочарование героя в том, что он не один оказался дома у Веры Васильевны, она не ждала его. Патриархальность убеждений Симеонова проявляется в его чувстве собственничества, подчеркнутого ирреальностью ситуации: это чувство проявляется при виде гостей на дне рождения певицы: «Она изменяла ему с этими пятнадцатью…» Неразделенное чувство героя доводится писательницей до абсурда: она изменяла ему «еще когда никакого Симеонова не было на свете, лишь ветер шевелил траву и в мире стояла тишина».
Встреча с мечтой, со здравствующей, но иной Верой Васильевной, совершенно раздавила Симеонова. Попав на день рождения певицы, он увидел обыденность, отсутствие поэзии и даже пошлость в лице одного из многочисленных гостей певицы - Поцелуева. Несмотря на романтическую фамилию, этот персонаж крепко стоит ногами на земле, сугубо деловит и предприимчив.
В финале рассказа Симеонов вместе с другими поклонниками помогает скрашивать быт певицы. Это по-человечески очень благородно. Но исчезли поэзия и очарование, автор подчеркивает это реалистическими деталями: «Согнувшийся в своем пожизненном послушании», Симеонов ополаскивает после Веры Васильевны ванну, смывая «серые окатышки с подсохших стенок, выколупывая седые волосы из сливного отверстия».
Рассказ заканчивается, как и начинался, образом реки. «Поцелуев заводил граммофон, слышен был дивный, нарастающий грозовой голос…взмывающий над распаренным телом Верунчика, пьющего чай с блюдечка,…над всем, чему нельзя помочь, над подступающим закатом,… над безымянными реками, текущими вспять, выходящими из берегов, бушующими и затопляющими город, как умеют делать только реки». И это как раз та особенность стиля Толстой, которую мы отметили выше - закольцованность времени, движение по кругу.
Дело даже не в том, что Вера Васильевна оказалась вовсе не такой, какой оставалась в мечтах давнего поклонника, а в том, что и сам он, вначале возрадовавшись возможности хоть чем-то помочь даме сердца, в глубине души боится этого. Отсюда и появившееся в его размышлениях грубоватое слово «старуха», для которой сойдет и залапанный кем-то торт, и мелкие, уже отцветающие «рыночные» хризантемы. «Вы цветов помельче принести не могли, что ли? Я вот розы принес, вот с мой кулак буквально», - удивляется верный поклонник Веры Васильевны – Поцелуев. Симеонов сам позже понимает, что сухие, больные, мертвые цветы годятся только на могилу его любви, а «тортик с дактилоскопической отметиной» не случайно уносит к себе домой Поцелуев. www.intoregions.ru
Поклонники Веры Васильевны собираются для обмена пластинкам, связями через которые можно решить собственные проблемы, это практичные и веселые люди, живущие реальной жизнью и преуспевающие в ней, о чем свидетельствуют их возможности доставлять недоступные Симеонову редкие пластинки. Симеонов в этом кругу чувствует себя чужим и совершенно несчастным, его представления о жизни своего кумира нелепы и смешны. Он находится на грани потери рассудка, так силен удар, нанесенный реальностью жизни, от сумасшествия его спасает женщина: «У дверей симеоновской квартиры маялась Тамара - родная! - она подхватила его, внесла, умыла, раздела и накормила горячим. Он пообещал Тамаре жениться, но под утро, во сне, пришла Вера Васильевна, плюнула ему в лицо, обозвала и ушла по сырой набережной в ночь, покачиваясь на выдуманных черных каблуках».
В отличие от своих коллег по женской прозе, Толстая дает достаточно подробный (в рамках жанра рассказа) образ героини – носительницы патриархальной культуры. Соня в одноименном рассказе, Маргарита («На золотом крыльце сидели»), Тамара (в «Реке Оккервиль») даны достаточно положительно, и если не с сочувствием то, по крайне мере в позитивном противопоставлении образу химере. И это в значительной мере характеризует Т.Толстую как носителя и маскулинного начала в женской прозе. В рассказе «Река Оккервиль» Толстой представлено два типа женщин, сопровождающих Симеонова, Тамара и Вера Васильевна, первая – хозяйка дома (гипотетически), вторая – творческая натура, не приспособленная для ведения домашнего хозяйства и неспособная создать уют. Подчеркнем только, что в такой художественной интерпретации портрета есть нечто от жесткого мужского взгляда.
Возможно, если герой на самом деле выполнил бы обещание жениться, Тамара сделала его счастливым, но «с утра в дверь трезвонил и стучал Поцелуев, пришедший осматривать ванную, готовить на вечер. И вечером он привез Веру Васильевну, жившую без удобств, к Симеонову помыться, курил симеоновские папиросы, налегал на бутерброды, говорил: "Да-а-а. Верунчик - это сила! Сколько мужиков в свое время ухойдакала - это ж боже мой!" Но и над описанием пошлой обстановки увиденного веселья, а потом – нелепого банного дня, когда Симеонову приходится смывать серые катышки со стенок ванны, в душе героя царит «дивный, нарастающий, грозовой голос, восставший из глубин, расправляющий крылья, взмывающий над миром». Будут деньги, и Симеонов купит за большую цену редкую пластинку, где Вера Васильевна тоскует, что не для нее придет весна. Бесплотная Вера Васильевна будет петь, сливаясь с Симеоновым в один тоскующий, надрывный голос.
Герои рассказа меняются ролями с гендерной точки зрения: Симеонов излишне чувствителен, а Вера Васильевна хоть и поет про весну, но «романс мужской», по мнению самого героя. Мужчина в своих мечтах видит себя рыцарем, олицетворяющим прекрасный идеал, к которому стремится женщина, но на деле он слаб. Реализация гендерного стереотипа через позиционирование мужской и женской роли в тексте дается автором путем преодоления четкой отнесенности героев к чистой мужской или чисто женской гендерной роли. И образ Симеонова и образ Веры Васильевны включают в себя как черты маскулинного, так и феминного начала: он и благородный преданный рыцарь, и нерешительный одинокий мужчина, она и прекрасная наяда, и твердая, стойкая дама, силой своего голоса превращающая все бытие героя в мелкий горох, в ничто. Рассказ Толстой заканчивается на философской ноте. Писательница не дает надежды на лучшее устройство жизни героя, ему не хватило сил на изменения в своей жизни, он не может расстаться с мечтой, где он рыцарь, а она прекрасная дама, реальность неприемлема и губительная для его тонко организованной мужской души.
Загадки
1.
Утром – на четырех ногах,
В полдень – на двух,
Вечером – на трех. (Человек).
Загадка построена по принципу описаниятолько одного признака – как человек передвигается в младенчестве, зрелости и старости.
2.
Между двух светил я в середке один. (Глаза, нос).
Загадка – метафора, глаза уподобляются небесным светилам – звездам.
3. ...
Вступление
1) Показать значение Солженицына в литературе и развитии общественной мысли страны
2) Показать публицистичность, обращенность рассказов к читателю.
3) Проанализировать отдельные эпизоды, их роль в общем содержании повествования, сопоставить персонажей произведений Солженицына: портрет, характер, поступки…
4) На материале произведений...
Сонеты
Наиболее вероятное время создания сонетов - 1593-1600. В 1609 вышло единственное прижизненное издание с посвящением, которое и по сей день продолжает оставаться одной из шекспировских загадок. Оно было адресовано таинственному W. H.: тот ли это «прекрасный юноша», друг, к которому обращено большинство сонетов (1-126 из общего числа - 15 ...
Книга рассказов Татьяны Толстой «Река Оккервиль» вышла в 1999 году в издательстве «Подкова» и сразу же имела большой читательский успех.
Писательница решает непростую художественную задачу - зафиксировать сам момент того или иного человеческого ощущения, впечатления, переживания, взглянуть на повседневную жизнь с точки зрения вечности. Для этого она обращается к сказочной и мифо-поэтической традициям.
Развернутые метафоры Т. Толстой превращают обыденную жизнь в сказку, уводят от проблем повседневности и тем самым позволяют читателю дать простор своей фантазии, предаться ностальгическим воспоминаниям и философским размышлениям.
Однако сказка разрушается при столкновении с грубой реальностью, как это происходит, например, в рассказе «Свидание с птицей». Загадочная волшебница Тамила оборачивается для мальчика Пети опустившейся девушкой с самыми прозаическими проблемами. «Таинственный, грустный, волшебный мир» становится для него «мертвым и пустым, пропитанным серой, глухой, сочащейся тоской».
Конфликтом рассказов Толстой часто является столкновение героев с самими собой, с собственным существованием в его проблемах и противоречиях. «Мир конечен, мир искривлен, мир замкнут, и замкнут он на Василии Михайловиче» («Круг»). «Время течет и колышет на спине лодку милой Шуры, и плещет морщинами в ее неповторимое лицо» («Ми-. лая Шура»). «... Запертые в его груди, ворочались сады, моря, города, хозяином их был Игнатьев...» («Чистый лист»).
Привлекает внимание особый интерес автора к образам детей и стариков, поскольку и те, и другие не ощущают времени, живут в своем особом замкнутом мире. При этом душа ребенка ближе к сказке, душа старика - к вечности.
Т. Толстая создает самые разнообразные метафоры детства и старости. Например, в рассказе «Самая любимая» детство изображается как пятое время года: «...на дворе стояло детство». В рассказе «На золотом крыльце сидели...» оно определяется как начало отсчета времени: «Вначале был сад.
Детство - золотая пора, когда кажется, что «жизнь вечна. Умирают только птицы».
Старость изображается автором как конец отсчета времени, утрата представления о последовательности событий и изменяемости форм жизни. Так, время в доме Александры Эрнестовны из рассказа «Милая Шура» «сбилось с пути, завязло на полдороге где-то под Курском, споткнулось над соловьиными речками, заблудилось, слепое, на подсолнуховых равнинах».
В рассказах Т. Толстой вообще много персонажей, у которых нет будущего, потому что они живут во власти прошлого - своих детских впечатлений, наивных мечтаний, давних страхов. Таковы, например, Римма («Огонь и пыль»), Наташа («Вышел месяц из тумана»), Петере из одноименного рассказа.
Однако есть и такие герои, которые живут вечно - в своей любви к людям и их памяти (Соня из одноименного рассказа, Женечка из рассказа «Самая любимая»); в своем творчестве (Гриша из «Поэта и музы», художник из «Охоты на мамонта»); в мире своих ярких фантазий (Филин из рассказа «Факир»). Все это люди, которые умеют передать другим свою жизненную энергию в самых разных ее проявлениях - через самопожертвование, искусство, умение красиво жить.
Однако практически все образы у Т. Толстой парадоксальным образом раздваиваются, жизненные ситуации изображаются как неоднозначные. Например, сложно прийти к однозначному выводу о том, кем на самом деле является Филин из рассказа «Факир». Это «гигант», «всесильный господин» мира грез или раб своих фантазий, «жалкий карлик, клоун в халате падишаха»?
Другой пример подобного раздвоения образа встречаем в рассказе «Милая Шура». Здесь светлые впечатления рассказчицы от общения с Анной Эр-нестовной резко контрастируют с уничижительными описаниями старухи: «Чулки спущены, ноги - подворотней, черный костюмчик засален и протерт».
В рассказе «Соня» также создается неоднозначный образ наивной «дуры», над которым явно иронизирует автор.
Таким образом проявляется связь прозы Т. Толстой с традициями литературы постмодернизма, в которой происходят постоянное раздвоение образов и смена тональности повествования: с сострадания - на злую иронию, с понимания - на насмешку.
Многие герои ее рассказов - неудачники, одиночки, страдальцы. Перед нами возникает своеобразная галерея несостоявшихся «принцев» и обманутых «золушек», у которых не сложилась «сказка жизни». И самая большая трагедия для человека возникает в случае, когда его «исключают из игры», как это происходит с одним из самых известных персонажей Толстой - Петерсом, с которым «никто играть не хотел».
Однако всегда ли герои находят сочувствие автора?
Т. Толстая скорее не сострадает человеку, а сожалеет о скоротечности жизни, тщете человеческих усилий. Вероятно, поэтому она иронизирует над Василием Михайловичем из рассказа «Круг», который в поисках личного счастья по номеркам на сдаваемом в прачечную белье «попросту нашарил впотьмах и ухватил обычное очередное колесо судьбы».
Писательница смеется также над Игнатьевым - «властелином своего мира, пораженным тоской», который хочет начать жизнь с «чистого листа» («Чистый лист»). Она издевается и над погоней Зои за семейным счастьем, в которой все средства хороши («Охота на мамонта»).
Причем подобная ирония доводится автором до гротеска. Так, Игнатьев не просто хочет изменить свою жизнь. Он всерьез решается на операцию по удалению души. Зоя в своей борьбе за мужа доходит до того, что накидывает петлю на шею своего избранника.
В связи с этим в творчестве Толстой возникает символический образ «коридора жизни»: от коридора коммунальной квартиры до образа жизненного пути.
Этот образ возникает и в рассказе «Милая Шура»: «длинен путь назад по темному коридору с двумя чайниками в руках».
К концу жизни «смыкается световой коридор» («Пламень небесный»). Он сужается до «тесного пенала, именуемого мирозданием», «холодного туннеля с заиндевелыми стенками» («Круг»), где каждый поступок человека жестко определен и заранее вписан в «книгу вечности». В этом замкнутом пространстве «человек бьется, просыпаясь, в однозначных тисках своего сегодня» («Вышел месяц из тумана»). Это время, когда «жизнь ушла, и голос будущего поет для других» («Огонь и пыль»).
Однако и такие персонажи, как ангелоподобный Серафим из одноименного рассказа, который ненавидел людей, «старался не смотреть на свиные рыла, верблюжьи хари, бегемотовы щеки», не встречают понимания у автора. В конце рассказа он превращается в безобразного Змея Горыныча.
Вероятно, наиболее точно авторская позиция сформулирована в словах Филина - героя рассказа «Факир»: «Вздохнем о мимолетности бытия и возблагодарим создателя за то, что дал нам вкусить то-го-сего на пиру жизни».
Эта идея во многом объясняет пристальное внимание писательницы к миру вещей и его детальное изображение в своем творчестве. Поэтому еще одна проблема рассказов Т. Толстой - взаимоотношения человека и вещи, внутреннего мира личности и внешнего мира предметов. Не случайно в ее произведениях часто появляются подробные описания интерьеров: например, квартира Филина («Факир»), комната Александры Эрнестовны («Милая Шура»), вещи Женечки («Самая любимая»), дача Тамилы («Свидание с птицей»).
В отличие от Л. Петрушевской, которая изображает чаще всего отталкивающие предметы, обнажающие «животность» человеческой натуры, Т. Толстая высказывает идею ценности вещи. В ее рассказах возникают особые предметы, «просочившиеся сквозь годы», не попавшие «в мясорубку времени».
В тот день», «зашифрованный пропуск туда, на тот берег».
Таковы эмалевый голубок Сони, «ведь голубков огонь не берет» («Соня»); старые фотографии из ридикюля Марьиванны («Любишь - не любишь»); неиспользованный билет на поезд к любимому человеку («Милая Шура»); обгорелая шапка Сергея («Спи спокойно, сынок») и т. п.
Своеобразие художественных приемов Т. Толстой определяется проблематикой ее творчества. Так, тема воспоминаний, власти прошлого над настоящим определяет фотографический принцип изображения: писательница стремится зафиксировать мимолетное впечатление, краткий момент жизни. Это напрямую заявлено в рассказе «Соня»: «...вдруг раскроется, словно в воздухе, светлой живой фотографией солнечная комната.
Река Оккервиль
Когда знак зодиака менялся на Скорпиона, становилось совсем уж ветрено, темно и дождливо. Мокрый, струящийся, бьющий ветром в стекла город за беззащитным, незанавешенным, холостяцким окном, за припрятанными в межоконном холоду плавлеными сырками казался тогда злым петровским умыслом, местью огромного, пучеглазого, с разинутой пастью, зубастого царя-плотника, все догоняющего в ночных кошмарах, с корабельным топориком в занесенной длани, своих слабых, перепуганных подданных. Реки, добежав до вздутого, устрашающего моря, бросались вспять, шипящим напором отщелкивали чугунные люки и быстро поднимали водяные спины в музейных подвалах, облизывая хрупкие, разваливающиеся сырым песком коллекции, шаманские маски из петушиных перьев, кривые заморские мечи, шитые бисером халаты, жилистые ноги злых, разбуженных среди ночи сотрудников. В такие-то дни, когда из дождя, мрака, прогибающего стекла ветра вырисовывался белый творожистый лик одиночества, Симеонов, чувствуя себя особенно носатым, лысеющим, особенно ощущая свои нестарые года вокруг лица и дешевые носки далеко внизу, на границе существования, ставил чайник, стирал рукавом пыль со стола, расчищал от книг, высунувших белые языки закладок, пространство, устанавливал граммофон, подбирая нужную по толщине книгу, чтобы подсунуть под хромой его уголок, и заранее, авансом блаженствуя, извлекал из рваного, пятнами желтизны пошедшего конверта Веру Васильевну – старый, тяжелый, антрацитом отливающий круг, не расщепленный гладкими концентрическими окружностями – с каждой стороны по одному романсу.
– Нет, не тебя! так пылко! я! люблю! – подскакивая, потрескивая и шипя, быстро вертелась под иглой Вера Васильевна; шипение, треск и кружение завивались черной воронкой, расширялись граммофонной трубой, и, торжествуя победу над Симеоновым, несся из фестончатой орхидеи божественный, темный, низкий, сначала кружевной и пыльный, потом набухающий подводным напором, восстающий из глубин, преображающийся, огнями на воде колыхающийся, – пщ-пщ-пщ, пщ-пщ-пщ, – парусом надувающийся голос – все громче, – обрывающий канаты, неудержимо несущийся, пщ-пщ-пщ, каравеллой по брызжущей огнями ночной воде – все сильней, – расправляющий крылья, набирающий скорость, плавно отрывающийся от отставшей толщи породившего его потока, от маленького, оставшегося на берегу Симеонова, задравшего лысеющую, босую голову к гигантски выросшему, сияющему, затмевающему полнеба, исходящему в победоносном кличе голосу, – нет, не его так пылко любила Вера Васильевна, а все-таки, в сущности, только его одного, и это у них было взаимно. Х-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ.
Симеонов бережно снимал замолкшую Веру Васильевну, покачивал диск, обхватив его распрямленными, уважительными ладонями; рассматривал старинную наклейку: э-эх, где вы теперь, Вера Васильевна? Где теперь ваши белые косточки? И, перевернув ее на спину, устанавливал иглу, прищуриваясь на черносливовые отблески колыхающегося толстого диска, и снова слушал, томясь, об отцветших давно, щщщ, хризантемах в саду, щщщ, где они с нею встретились, и вновь, нарастая подводным потоком, сбрасывая пыль, кружева и годы, потрескивала Вера Васильевна и представала томной наядой – неспортивной, слегка полной наядой начала века – о сладкая груша, гитара, покатая шампанская бутыль!
А тут и чайник закипал, и Симеонов, выудив из межоконья плавленый сыр или ветчинные обрезки, ставил пластинку с начала и пировал по-холостяцки, на расстеленной газете, наслаждался, радуясь, что Тамара сегодня его не настигнет, не потревожит драгоценного свидания с Верой Васильевной. Хорошо ему было в его одиночестве, в маленькой квартирке, с Верой Васильевной наедине, и дверь крепко заперта от Тамары, и чай крепкий и сладкий, и почти уже закончен перевод ненужной книги с редкого языка – будут деньги, и Симеонов купит у одного крокодила за большую цену редкую пластинку, где Вера Васильевна тоскует, что не для нее придет весна, – романс мужской, романс одиночества, и бесплотная Вера Васильевна будет петь его, сливаясь с Симеоновым в один тоскующий, надрывный голос. О блаженное одиночество! Одиночество ест со сковородки, выуживает холодную котлету из помутневшей литровой банки, заваривает чай в кружке – ну и что? Покой и воля! Семья же бренчит посудным шкафом, расставляет западнями чашки да блюдца, ловит душу ножом и вилкой, – ухватывает под ребра с двух сторон, – душит ее колпаком для чайника, набрасывает скатерть на голову, но вольная одинокая душа выскальзывает из-под льняной бахромы, проходит ужом сквозь салфеточное кольцо и – хоп! лови-ка! – она уже там, в темном, огнями наполненном магическом кругу, очерченном голосом Веры Васильевны, она выбегает за Верой Васильевной, вслед за ее юбками и веером, из светлого танцующего зала на ночной летний балкон, на просторный полукруг над благоухающим хризантемами садом, впрочем, их запах, белый, сухой и горький, – это осенний запах, он уже заранее предвещает осень, разлуку, забвение, но любовь все живет в моем сердце больном, – это больной запах, запах прели и грусти, где-то вы теперь, Вера Васильевна, может быть, в Париже или Шанхае, и какой дождь – голубой парижский или желтый китайский – моросит над вашей могилой, и чья земля студит ваши белые кости? Нет, не тебя так пылко я люблю! (Рассказывайте! Конечно же, меня, Вера Васильевна!)
Мимо симеоновского окна проходили трамваи, когда-то покрикивавшие звонками, покачивавшие висящими петлями, похожими на стремена, – Симеонову все казалось, что там, в потолках, спрятаны кони, словно портреты трамвайных прадедов, вынесенные на чердак; потом звонки умолкли, слышался только перестук, лязг и скрежет на повороте, наконец краснобокие твердые вагоны с деревянными лавками поумирали, и стали ходить вагоны округлые, бесшумные, шипящие на остановках, можно было сесть, плюхнуться на охнувшее, испускающее под тобой дух мягкое кресло и покатить в голубую даль, до конечной остановки, манившей названием: «Река Оккервиль». Но Симеонов туда никогда не ездил. Край света, и нечего там ему было делать, но не в том даже дело: не видя, не зная дальней этой, почти не ленинградской уже речки, можно было вообразить себе все, что угодно: мутный зеленоватый поток, например, с медленным, мутно плывущим в нем зеленым солнцем, серебристые ивы, тихо свесившие ветви с курчавого бережка, красные кирпичные двухэтажные домики с черепичными крышами, деревянные горбатые мостики – тихий, замедленный, как во сне, мир; а ведь на самом деле там наверняка же склады, заборы, какая-нибудь гадкая фабричонка выплевывает перламутрово-ядовитые отходы, свалка дымится вонючим тлеющим дымом, или что-нибудь еще, безнадежное, окраинное, пошлое. Нет, не надо разочаровываться, ездить на речку Оккервиль, лучше мысленно обсадить ее берега длинноволосыми ивами, расставить крутоверхие домики, пустить неторопливых жителей, может быть, в немецких колпаках, в полосатых чулках, с длинными фарфоровыми трубками в зубах... А лучше замостить брусчаткой оккервильские набережные, реку наполнить чистой серой водой, навести мосты с башенками и цепями, выровнять плавным лекалом гранитные парапеты, поставить вдоль набережной высокие серые дома с чугунными решетками подворотен – пусть верх ворот будет как рыбья чешуя, а с кованых балконов выглядывают настурции, поселить там молодую Веру Васильевну, и пусть идет она, натягивая длинную перчатку, по брусчатой мостовой, узко ставя ноги, узко переступая черными тупоносыми туфлями с круглыми, как яблоко, каблуками, в маленькой круглой шляпке с вуалькой, сквозь притихшую морось петербургского утра, и туман по такому случаю подать голубой.
Подать голубой туман! Туман подан, Вера Васильевна проходит, постукивая круглыми каблуками, весь специально приготовленный, удерживаемый симеоновским воображением мощеный отрезок, вот и граница декорации, у режиссера кончились средства, он обессилен, и, усталый, он распускает актеров, перечеркивает балконы с настурциями, отдает желающим решетку с узором как рыбья чешуя, сощелкивает в воду гранитные парапеты, рассовывает по карманам мосты с башенками, – карманы распирает, висят цепочки, как от дедовских часов, и только река Оккервиль, судорожно сужаясь и расширяясь, течет и никак не может выбрать себе устойчивого облика.
Симеонов ел плавленые сырки, переводил нудные книги, вечерами иногда приводил женщин, а наутро, разочарованный, выпроваживал их – нет, не тебя! – запирался от Тамары, все подступавшей с постирушками, жареной картошкой, цветастыми занавесочками на окна, все время тщательно забывавшей у Симеонова важные вещи, то шпильки, то носовой платок, – к ночи они становились ей срочно нужны, и она приезжала за ними через весь город, – Симеонов тушил свет и не дыша стоял, прижавшись к притолоке в прихожей, пока она ломилась, и очень часто сдавался, и тогда ел на ужин горячее и пил из синей с золотом чашки крепкий чай с домашним напудренным хворостом, а Тамаре ехать назад было, конечно, поздно, последний трамвай ушел, и до туманной речки Оккервиль ему уж тем более было не доехать, и Тамара взбивала подушки, пока Вера Васильевна, повернувшись спиной, не слушая оправданий Симеонова, уходила по набережной в ночь, покачиваясь на круглых, как яблоко, каблуках.
Осень сгущалась, когда он покупал у очередного крокодила тяжелый, сколотый с одного краешка диск, – поторговались, споря об изъяне, цена была очень уж высока, а почему? – потому что забыта напрочь Вера Васильевна, ни по радио не прозвучит, ни в викторинах не промелькнет короткая, нежная ее фамилия, и теперь только изысканные чудаки, снобы, любители, эстеты, которым охота выбрасывать деньги на бесплотное, гоняются за ее пластинками, ловят, нанизывают на штыри граммофонных вертушек, переписывают на магнитофоны ее низкий, темный, сияющий, как красное дорогое вино, голос. А ведь старуха еще жива, сказал крокодил, живет где-то в Ленинграде, в бедности, говорят, и безобразии, и недолго же сияла она и в свое-то время, потеряла бриллианты, мужа, квартиру, сына, двух любовников и, наконец, голос – в таком вот именно порядке, и успела с этими своими потерями уложиться до тридцатилетнего возраста, с тех пор и не поет, однако живехонька. Вот как, думал, отяжелев сердцем, Симеонов, и по пути домой, через мосты и сады, через трамвайные пути, все думал: вот как... И, заперев дверь, заварив чаю, поставил на вертушку купленное выщербленное сокровище и, глядя в окно на стягивающиеся на закатной стороне тяжелые цветные тучи, выстроил, как обычно, кусок гранитной набережной, перекинул мост, – и башенки нынче отяжелели, и цепи были неподъемно чугунны, и ветер рябил и морщил, волновал широкую, серую гладь реки Оккервиль, и Вера Васильевна, спотыкаясь больше положенного на своих неудобных, придуманных Симеоновым, каблуках, заламывала руки и склоняла маленькую гладко причесанную головку к покатому плечику, – тихо, так тихо светит луна, а дума тобой роковая полна, – луна не поддавалась, мылом выскальзывала из рук, неслась сквозь рваные оккервильские тучи, – на этом Оккервиле всегда что-то тревожное с небом, – как беспокойно мечутся прозрачные, прирученные тени нашего воображения, когда сопение и запахи живой жизни проникают в их прохладный, туманный мир!
Глядя на закатные реки, откуда брала начало и река Оккервиль, уже зацветавшая ядовитой зеленью, уже отравленная живым старушечьим дыханием, Симеонов слушал спорящие голоса двух боровшихся демонов: один настаивал выбросить старуху из головы, запереть покрепче двери, изредка приоткрывая их для Тамары, жить, как и раньше жил, в меру любя, в меру томясь, внимая в минуты одиночества чистому звуку серебряной трубы, поющему над неведомой туманной рекой, другой же демон – безумный юноша с помраченным от перевода дурных книг сознанием – требовал идти, бежать, разыскать Веру Васильевну – подслеповатую, бедную, исхудавшую, сиплую, сухоногую старуху, разыскать, склониться к ее почти оглохшему уху и крикнуть ей через годы и невзгоды, что она – одна-единственная, что ее, только ее так пылко любил он всегда, что любовь все живет в его сердце больном, что она, дивная пери, поднимаясь голосом из подводных глубин, наполняя паруса, стремительно проносясь по ночным огнистым водам, взмывая ввысь, затмевая полнеба, разрушила и подняла его – Симеонова, верного рыцаря, – и, раздавленные ее серебряным голосом, мелким горохом посыпались в разные стороны трамваи, книги, плавленые сырки, мокрые мостовые, птичьи крики Тамары, чашки, безымянные женщины, уходящие года, вся бренность мира. И старуха, обомлев, взглянет на него полными слез глазами: как? вы знаете меня? не может быть! боже мой! неужели это кому-нибудь еще нужно! и могла ли я думать! – и, растерявшись, не будет знать, куда и посадить Симеонова, а он, бережно поддерживая ее сухой локоть и целуя уже не белую, всю в старческих пятнах руку, проводит ее к креслу, вглядываясь в ее увядшее, старинной лепки лицо. И, с нежностью и жалостью глядя на пробор в ее слабых белых волосах, будет думать: о, как мы разминулись в этом мире! Как безумно пролегло между нами время! («Фу, не надо», – кривился внутренний демон, но Симеонов склонялся к тому, что надо.)
Он буднично, оскорбительно просто – за пятак – добыл адрес Веры Васильевны в уличной адресной будке; сердце стукнуло было: не Оккервиль? конечно, нет. И не набережная. Он купил хризантем на рынке – мелких, желтых, обернутых в целлофан. Отцвели уж давно. И в булочной выбрал тортик. Продавщица, сняв картонную крышку, показала выбранное на отведенной руке: годится? – но Симеонов не осознал, что берет, отпрянул, потому что за окном булочной мелькнула – или показалось? – Тамара, шедшая брать его на квартире, тепленького. Потом уж в трамвае развязал покупку, поинтересовался. Ну, ничего. Фруктовый. Прилично. Под стеклянистой желейной гладью по углам спали одинокие фрукты: там яблочный ломтик, там – угол подороже – ломтик персика, здесь застыла в вечной мерзлоте половинка сливы, и тут – угол шаловливый, дамский, с тремя вишенками. Бока присыпаны мелкой кондитерской перхотью. Трамвай тряхнуло, тортик дрогнул, и Симеонов увидел на отливавшей водным зеркалом желейной поверхности явственный отпечаток большого пальца – нерадивого ли повара, неуклюжей ли продавщицы. Ничего, старуха плохо видит. И я сразу нарежу. («Вернись, – печально качал головой демон-хранитель, – беги, спасайся».) Симеонов завязал опять, как сумел, стал смотреть на закат. Узким ручьем шумел (шумела? шумело?) Оккервиль, бился в гранитные берега, берега крошились, как песчаные, оползали в воду. У дома Веры Васильевны он постоял, перекладывая подарки из руки в руку. Ворота, в которые предстояло ему войти, были украшены поверху рыбьей узорной чешуей. За ними страшный двор. Кошка шмыгнула. Да, так он и думал. Великая забытая артистка должна жить вот именно в таком дворе. Черный ход, помойные ведра, узкие чугунные перильца, нечистота. Сердце билось. Отцвели уж давно. В моем сердце больном.
Он позвонил. («Дурак», – плюнул внутренний демон и оставил Симеонова.) Дверь распахнулась под напором шума, пения и хохота, хлынувшего из недр жилья, и сразу же мелькнула Вера Васильевна, белая, огромная, нарумяненная, черно– и густобровая, мелькнула там, за накрытым столом, в освещенном проеме, над грудой остро, до дверей пахнущих закусок, над огромным шоколадным тортом, увенчанным шоколадным зайцем, громко хохочущая, раскатисто смеющаяся, мелькнула – и была отобрана судьбой навсегда. И надо было поворачиваться и уходить. Пятнадцать человек за столом хохотали, глядя ей в рот: у Веры Васильевны был день рождения, Вера Васильевна рассказывала, задыхаясь от смеха, анекдот. Она начала его рассказывать, еще когда Симеонов поднимался по лестнице, она изменяла ему с этими пятнадцатью, еще когда он маялся и мялся у ворот, перекладывая дефектный торт из руки в руку, еще когда он ехал в трамвае, еще когда запирался в квартире и расчищал на пыльном столе пространство для ее серебряного голоса, еще когда впервые с любопытством достал из пожелтевшего рваного конверта тяжелый, черный, отливающий лунной дорожкой диск, еще когда никакого Симеонова не было на свете, лишь ветер шевелил траву и в мире стояла тишина. Она не ждала его, худая, у стрельчатого окна, вглядываясь вдаль, в стеклянные струи реки Оккервиль, она хохотала низким голосом над громоздящимся посудой столом, над салатами, огурцами, рыбой и бутылками, и лихо же пила, чаровница, и лихо же поворачивалась туда-сюда тучным телом. Она предала его. Или это он предал Веру Васильевну? Теперь поздно было разбираться.
– Еще один! – со смехом крикнул кто-то, по фамилии, как выяснилось тут же, Поцелуев. – Штрафную! – И торт с отпечатком, и цветы отобрали у Симеонова, и втиснули его за стол, заставив выпить за здоровье Веры Васильевны, здоровье, которого, как он убеждался с неприязнью, ей просто некуда было девать. Симеонов сидел, машинально улыбался, кивал головой, цеплял вилкой соленый помидор, смотрел, как и все, на Веру Васильевну, выслушивал ее громкие шутки – жизнь его была раздавлена, переехана пополам; сам дурак, теперь ничего не вернешь, даже если бежать; волшебную диву умыкнули горынычи, да она сама с удовольствием дала себя умыкнуть, наплевала на обещанного судьбой прекрасного, грустного, лысоватого принца, не пожелала расслышать его шагов в шуме дождя и вое ветра за осенними стеклами, не пожелала спать, уколотая волшебным веретеном, заколдованная на сто лет, окружила себя смертными, съедобными людьми, приблизила к себе страшного этого Поцелуева – особо, интимно приближенного самим звучанием его фамилии, – и Симеонов топтал серые высокие дома на реке Оккервиль, крушил мосты с башенками и швырял цепи, засыпал мусором светлые серые воды, но река вновь пробивала себе русло, а дома упрямо вставали из развалин, и по несокрушимым мостам скакали экипажи, запряженные парой гнедых.
– Курить есть? – спросил Поцелуев. – Я бросил, так с собой не ношу. – И обчистил Симеонова на полпачки. – Вы кто? Поклонник-любитель? Это хорошо. Квартира своя? Ванна есть? Гут. А то тут общая только. Будете возить ее к себе мыться. Она мыться любит. По первым числам собираемся, записи слушаем. У вас что есть? «Темно-зеленый изумруд» есть? Жаль. Который год ищем, прямо несчастье какое-то. Ну нигде буквально. А эти ваши широко тиражировались, это неинтересно. Вы «Изумруд» ищите. У вас связей нет колбасы копченой доставать? Нет, ей вредно, это я так... себе. Вы цветов помельче принести не могли, что ли? Я вот розы принес, вот с мой кулак буквально. – Поцелуев близко показал волосатый кулак. – Вы не журналист, нет? Передачку бы про нее по радио, все просится Верунчик-то наш. У, морда. Голосина до сих пор как у дьякона. Дайте ваш адрес запишу. – И, придавив Симеонова большой рукой к стулу, – сидите, сидите, не провожайте, – Поцелуев выбрался и ушел, прихватив с собой симеоновский тортик с дактилоскопической отметиной.
Чужие люди вмиг населили туманные оккервильские берега, тащили свой пахнущий давнишним жильем скарб – кастрюльки и матрасы, ведра и рыжих котов, на гранитной набережной было не протиснуться, тут и пели уже свое, выметали мусор на уложенную Симеоновым брусчатку, рожали, размножались, ходили друг к другу в гости, толстая чернобровая старуха толкнула, уронила бледную тень с покатыми плечами, наступила, раздавив, на шляпку с вуалькой, хрустнуло под ногами, покатились в разные стороны круглые старинные каблуки, Вера Васильевна крикнула через стол: «Грибков передайте!», – и Симеонов передал, и она поела грибков.
Он смотрел, как шевелится ее большой нос и усы под носом, как переводит она с лица на лицо большие, черные, схваченные старческой мутью глаза, тут кто-то включил магнитофон, и поплыл ее серебряный голос, набирая силу, – ничего, ничего, – думал Симеонов. Сейчас доберусь до дому, ничего. Вера Васильевна умерла, давным-давно умерла, убита, расчленена и съедена этой старухой, и косточки уже обсосаны, я справил бы поминки, но Поцелуев унес мой торт, ничего, вот хризантемы на могилу, сухие, больные, мертвые цветы, очень к месту, я почтил память покойной, можно встать и уйти.
У дверей симеоновской квартиры маялась Тамара – родная! – она подхватила его, внесла, умыла, раздела и накормила горячим. Он пообещал Тамаре жениться, но под утро, во сне, пришла Вера Васильевна, плюнула ему в лицо, обозвала и ушла по сырой набережной в ночь, покачиваясь на выдуманных черных каблуках. А с утра в дверь трезвонил и стучал Поцелуев, пришедший осматривать ванную, готовить на вечер. И вечером он привез Веру Васильевну к Симеонову помыться, курил си-меоновские папиросы, налегал на бутерброды, говорил: «Да-а-а... Верунчик – это сила! Сколько мужиков в свое время ухойдакала – это ж боже мой!» А Симеонов против воли прислушивался, как кряхтит и колышется в тесном ванном корыте грузное тело Веры Васильевны, как с хлюпом и чмоканьем отстает ее нежный, тучный, налитой бок от стенки влажной ванны, как с всасывающим звуком уходит в сток вода, как шлепают по полу босые ноги, и как наконец, откинув крючок, выходит в халате красная, распаренная Вера Васильевна: «Фу-ух. Хорошо». Поцелуев торопился с чаем, а Симеонов, заторможенный, улыбающийся, шел ополаскивать после Веры Васильевны, смывать гибким душем серые окатыши с подсохших стенок ванны, выколупывать седые волосы из сливного отверстия. Поцелуев заводил граммофон, слышен был дивный, нарастающий, грозовой голос, восстающий из глубин, расправляющий крылья, взмывающий над миром, над распаренным телом Верунчика, пьющего чай с блюдечка, над согнувшимся в своем пожизненном послушании Симеоновым, над теплой, кухонной Тамарой, над всем, чему нельзя помочь, над подступающим закатом, над собирающимся дождем, над ветром, над безымянными реками, текущими вспять, выходящими из берегов, бушующими и затопляющими город, как умеют делать только реки.